К этим
историям жизни я ничего не
примышлял, не искал модных
псевдонаучных и псевдомистических
толкований. Словом, не
самовыражался. Просто излагал
события и старался описывать по
эстетическим законам. Для меня
главное в этой череде очерков –
возможность прикоснуться словом,
чувством к тем, кого любишь. А
любовь – состояние, не знающее
границ во времени и пространстве.
Любовь
поэта
Завершался
восемнадцатый век, бурный век
европейского «Просвещения»:
революции культурные, научно-промышленные,
социальные. Тогдашние «образованцы-энциклопедисты»,
навроде йогов, уже развернули
перед глазами простаковатой
публики манящие миражи о
благотворной воспитующей чистоте
и прелести дикой природы в
противовес разлагающим традициям
общественного уклада. Жуликоватый
простолюдин побеждал на
подмостках театров сластолюбивых
тупых аристократов и т.д. А на
бульварах промышленных центров
начали широко продавать газетные «жёлтые»
листки для фабричных, да и
остальных мещан. Листки эти,
первенцы масскульта, служили одной
цели – отбить у масс охоту
задумываться о смысле жизни,
подменить погоней за примитивным
удовольствием, за глупыми
социальными сказками-«обещалками».
Этот словесный кнут эксплуатации…
Но всё таки главное в том времени –
буржуа-спекулянт уже повёл под
писанными пальцем в воздухе
лозунгами о свободе и равенстве
эти самые сплочённые массы,
вооружив их и разъярив, на
добывание себе власти и богатств
мира. Открылась современная эпоха
массового террора, который всё
нарастает и нарастает. Те первые
реки крови давно уже слились в
самый полноводный, из всех
мыслимых, океан.
Но это
происходило пока в экономическом
средостении Европы. А в Шотландии,
в глухом углу, жизнь внешне
протекала по старинке. Проникавшие
идеи в простых неискушенных душах
провинциалов часто
облагораживались, теряли свою
кровожадную изнанку и порой
приносили даже действительную
пользу родной земле. Всё зависело
от того, кто и с какой целью
применяет это оружие.
Итак, в
Шотландии, в городке Мохлине жизнь
протекала привычно, как в
предыдущие века. И так же
традиционно собиралась по
праздникам в таверне молодежь.
Однажды, под
конец танцевальной вечеринки,
внутрь ворвалась большая овчарка.
Она соскучилась - бросилась лапами
на грудь хозяину и принялась
лизаться.
Высокий
плечистый и чуть сутуловатый
парень с темными, одушевлённо
светящимися глазами, обнял за шею
своего пса и громко, для всех,
высказал: «Вот бы мне найти
подружку, которая полюбила бы меня
как этот пёс!». Всё посмеялись да
разошлись…
А спустя
несколько дней парень проходил по
лугу, где девушки белили холсты.
Одна из них вспомнила,
распрямилась и крикнула: «Ну как,
Моссгил, нашёл себе подружку?». Тот
засмотрелся и, всё не сводя с неё
глаз, ответил тихо: «Нашёл…». Так
начиналась любовь 25-летнего пахаря,
арендатора фермы Моссгил, и вместе
самородного поэта Роберта Бёрнса и
семнадцатилетней Джин Армор.
Любовь эта вышла трудной,
драматичной и высокой и подарила
миру множество прекрасных стихов.
Молодые
люди, дерзнувшие влюбиться, тотчас
оказались в безвыходном положении.
Роберт был беден, писал «вольные»
стихи. В них он как раз преломлял,
облагораживал те европейские идеи
свободы в приложении к своей
национально-экономически
угнетённой родине. Ну, а отец Джин
был самодовольным зажиточным
буржуа-откупщиком, да ещё
пуританских нравов. У него имелась
привычка прилюдно обзывать
последними словами молодого
Бёрнса, «подрывателя основ великой
Британской империи». И никакого
дела этому Армору не было до того,
почему Бёрнсы, трудолюбивый
крестьянский род, оказались в
безвыходной нужде. А причина того
проста…
Начало
восемнадцатого века
ознаменовалось для Шотландии
подъёмом национального
самосознания, последней попыткой
добиться воли вооружённой рукой.
Возникло движение «якобитов»,
сторонников восстановления
древней династии Стюартов и
независимого Парламента. Из-за
моря был призван изгнанник – «славный
принц Чарли». Главы кланов подняли
восстание. Множество крестьян из
долин примкнуло к нему. Среди них –
предки Бёрнса. Шотландия всегда
оставалась и остаётся самой
непокорной провинцией Британии.
Вот и в тот, очередной, раз империи
всё таки удалось подавить мятеж.
Началась расправа. У фермеров-землевладельцев
отняли их земли, согнали и
превратили в арендаторов. А за
плату предлагали теперь самые
бесплодные каменистые участки. Так
пытались уничтожить самый корень
непокорного народа.
Отцу Роба
Вильяму приходилось скитаться по
Шотландии, наниматься на любое
дело.
Ему
повезло – четырнадцать лет
удалось прослужить садовником:
сначала в Эдинбурге, а затем у
помещика близ города Эйра. Там, в
деревне Аллоуэй, он выстроил на
скудные деньги мазанку, сквозь
крохотное оконце которой впервые
увидел солнечный свет его старший
сын Роберт. Та хижина, как и другие
места, связанные с Бёрнсом,
неповреждённо сохраняются всем
народом Шотландии. И к ним на
поклон едут и едут люди со всех
концов мира…
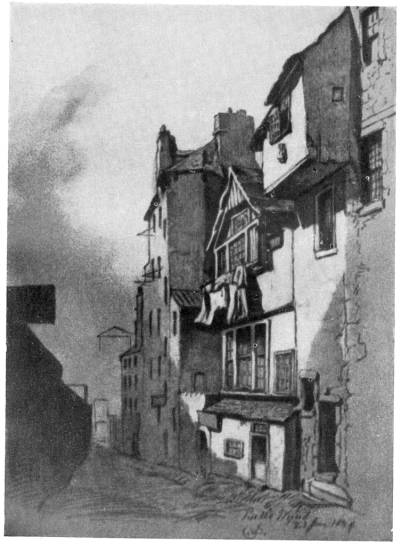
Старый Эдинбург
В
последующем семья арендовала
несколько ферм, пока не оказалась в
Моссгиле. И надо же тому случиться:
в тот самый год, когда Робу
исполнилось двадцать пять и его
стихами впервые заинтересовались
национально мыслящие лучшие люди
Мохлина, когда он встретил своё
счастье, свою Джин, в тот год
скончался от туберкулёза, от
надрывной жизни его отец. Старший
сын должен был становиться главой
семьи и убыточной фермы.
Отец
Роберта не смог оставить детям
состояние. Но он успел в главном –
дал им хорошее образование. Он
был мудрым человеком, прожившим
тяжёлую жизнь и понимавшим:
будущее детей, как и Шотландии в
целом, теперь зависит от
самостоятельности культурной. И
всё в стране шло к такому
становлению. А главное условие
этого – язык народный должен
вырасти в язык книжный,
литературный. Только так
становятся государства и нации.
Отец не
жалел денег на учителей. И один из
них, Джон Мердок, сумел разбудить
душу Роберта и оказал на него
огромное влияние. Этот подвижник
литературы обучил юношу
правильной английской речи, ввёл в
литературную традицию, открыл
книжную классику мира. И с той поры
два речевых потока: литературный
английский и народный шотландский,
на котором пела песни,
рассказывала сказки мать, - слились
и запечатлелись в стихотворчестве
Бёрнса. Да и с Джин ему отлично
повезло! Девушка прекрасно пела,
знала множество старинных напевов,
на которые писал свои стихи Роберт.
Итак, отец
Джин откупщик Армор не мог
благословить молодых. Они, понимая
всю опасность его нрава и связей,
даже не обращались к нему. Они
решили ожениться тайно, по
древнему каледонскому обычаю. Для
этого надо было написать брачный
контракт, в котором пред Богом
объявить себя мужем и женой
навечно. И хранить эту бумагу пуще
жизни. Если она исчезнет – жди беды.
Если её разорвать – узы брака тоже
будут расторгнуты.
Молодые
оженились. Долго никто не мог
заподозрить, что у них появилась
тайная жизнь. Они были крайне
осмотрительны. Малейшая
оплошность – и подпадешь
церковному суду, который потянет
за собой кару уже гражданскую. И
всё равно Джин каждую ночь бегала
через поле к своему Роберту – он
загодя отворял для неё окошко. А
под утро возвращалась к себе.
Пробираясь
до калитки
Полем
вдоль межи,
Дженни
вымокла до нитки
Вечером
во ржи.
Очень
холодно девчонке,
Бьёт
девчонку дрожь.
Замочила
все юбчонки,
Идя
через рожь…(здесь и далее -
переводы С.Я.Маршака).
Вскоре Джин
забеременела. Отец, узнав о таком «позоре»,
нашёл и уничтожил их брачный
контракт. Подал жалобу в церковный
совет и суд. К счастью, Бёрнса в ту
пору не было в Моссгиле. Он был в
городе Кильмарноке, где готовился
к печати его первый сборник –
тонкая книжица в грубой серой
обложке. Она издавалась по
подписке, устроенной
состоятельными образованными
друзьями. Эти люди поняли, что за
явление открывается им. Явление,
которое так долго ждали и готовили
всем напряжением своих трудов на
благо родины.
Восемьсот
экземпляров первого на
шотландском языке стихотворного
сборника разошлись в один день. И к
Бёрнсу пришла слава. Вся страна от
знатных до нищих зачитывалась
строками на родном речении. Люди
переписывали книжицу от руки. А
неграмотные старались заучивать с
голоса. Наконец в Шотландии явился
народный национальный поэт! Да,
были попытки явления и до него. Был
Фергюссон, первым
приспосабливавший речь скоттов к
нормам поэтики. Но он слишком рано
умер – совсем юным, от эпидемии. Он
был нищим и его похоронили в
безымянной могиле, даже без креста.
От него осталось всего лишь
несколько маленьких стихотворений.
Были так же другие старательные
люди: фольклористы-подвижники,
обрабатывавшие народные сюжеты по
нормативам английского
литературного языка. Но не было
среди них поэтического гения. И вот
он явился. И свёл, казалось бы,
несоединимое. Кто-то считает его
стихи грубыми. Но в них – высокая
поэтика; и в них же – стихия
народной речи, реальной жизни.
Итак, Бёрнс
узнал первую славу. В то же самое
время Армор сослал дочь в дальний
городок, где она со страхом ждала
родов. А Роберт, узнав о судьбе
захваченного контракта, вспылил –
решил, что Джин сама его выдала. Он
был поэтом и человеком страстным,
гордым, увлекающимся. Но когда
тайком навестил «свою девочку», то
убедился – она не виновата.
Пошатнувшийся под ударом гордости
и суеверия мир устоял.
Третьего
сентября тысяча семьсот
восемьдесят шестого года Джин
родила близнецов – сына и дочь. Их
назвали в честь родителей. Но отец
не мог приласкать своих детей.
Арморы были по-прежнему против
свадьбы, брака христианского,
узаконенного. Роберт вынужден был
ездить по Шотландии, скрываясь от
суда. И всюду встречал собственную
славу.
В конце
ноября Бёрнс уезжает на чужой
лошади – он всё так же нищ – в
Эдинбург, в это сосредоточение
учёности и культуры. Город тогда
прямо именовали «северными
Афинами». Бёрнса здесь уже знали и
ждали.
Учёный,
философский, поэтический люд
приглашает его на всяческие вечера,
где он читает, читает свои стихи.
Эти стихи – о совершенно простой
жизни народа. Но они глубоко
поэтичны, искренни. Они –
художественны. И тем трогают
сердца.
Джон
Андерсон, мой старый друг,
Подумай-ка,
давно ль
Густой,
крутой твой локон
Был
чёрен, точно смоль.
Теперь
ты снегом убелён, -
Ты
знал немало вьюг.
Но
будь ты счастлив, лысый Джон,
Джон
Андерсон, мой друг!…
И, наконец,
сама красавица герцогиня Гордэн
приказывает аристократическому
Каледонскому охотничьему клубу
устроить в честь поэта бал. Она
сама весь вечер протанцует с ним. А
после скажет: «Ваш пахарь совсем
вскружил мне голову!». Да и как было
не восхищаться Бёрнсом?! Чуть
глуховатый выразительный голос,
задушевность, отсутствие позы,
непринуждённые при этом манеры,
простая, но изящно сидящая одежда…
Словом, природное изящество,
благородство, тонкость души.
Каледонский
клуб с подачи герцогини устраивает
подписку на выпуск уже двухтомника
стихов в лучшей типографии. Что
вскоре и состоялось. Две тысячи
экземпляров разошлись в два дня.
Издатель заключает с поэтом
договор на владение его авторскими
правами. Сто гиней и ещё четыреста
фунтов – огромные деньги, каких
Роберт никогда не имел. И тот
соглашается. Расчёт происходит.
Правда, делец обманывает поэта на
сто фунтов. Ну, так на то он и делец…
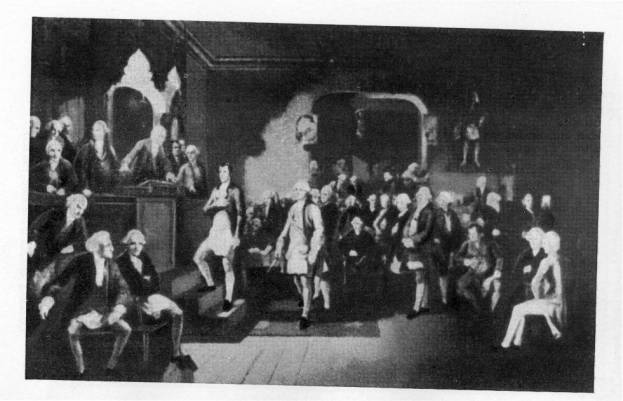
Каледонский клуб
Одновременно
Бёрнс начинает бесплатно работать
для «Шотландского музыкального
музея». Это труд ради будущего
родины. Он собирает, обрабатывает,
придаёт форму легендам, балладам,
песням, не иссушая их, не подменяя
образности, сохраняя народно-исторический
колорит. Находит
могилу Фергюссона, ухаживает за
ней, ставит камень со своими
строками забытому поэту:
Ни
урны, ни торжественного слова,
Ни
статуи в его ограде нет.
Лишь
голый камень говорит сурово:
-
Шотландия! Под камнем – твой поэт!
В июне
восемьдесят седьмого года он
вернулся в Моссгил. Теперь суд ему,
наконец, не страшен. А еще, он везёт
семье деньги и подарки! До позднего
вечера в хижине Бёрнсов пели-гуляли
гости. А ночью, как когда-то прежде,
к нему пришла его Джин. Пришла
через окошко мать его двух детей…
Она уходила уже на рассвете. Роберт
тревожился. Теперь откроется, что
она снова была у него и её опять
начнут мучить. Но Джин была
спокойна – ведь мать сама послала
её к нему. А Роберт впал в гнев.
Теперь, при деньгах и славе, он
Арморам угоден и она так спокойно
относится к этому?! Значит, она – с
ними?! И он, оскорблённый, бежит в
горную Шотландию.
Вскоре он
вновь в Эдинбурге. И здесь его ждёт
сильнейшее искушение. Поэт,
пишущий о любви как высшем счастье,
о свободном праве на любовь,
конечно же увлекается. Да когда еще
чувство оскорблено!..
Героиней
бурного и короткого идеального
романа стала молоденькая
брошенная «соломенная вдова»,
дворяночка Нэнси Мак-Лиоз. Она
глубоко очаровалась поэтом. Он –
ею. Они оказались сходными,
идеалистическими натурами. Она –
музыкально одарена, с отменным
художественным вкусом и вдобавок
– несчастна. Они, очарованные,
проводили вдвоём вечера напролёт.
Не могли наглядеться друг на друга,
наговориться. Они понимали – роман
их обречён и время отмерено.
Сословная, общественная разница не
позволяла соединиться. Случись это
– оба становились париями. Ему –
путь к печати закрыт. Она лишалась
репутации, статуса сословия,
пенсиона. И она была женщиной не
для хижины… Да, отвлечённые идеи «Просвещения»
хоть и привлекали даже венценосцев,
но жить по ним не собирались даже
сами их «родители» и пропагандисты.
Когда же рискнули применить –
ужаснулись. И пытаются замазывать
результаты этого эксперимента до
сих пор, как в той же Франции…
Итак,
влюбленные, измучившись
безысходностью, решаются на разрыв.
Для Бёрнса этот шаг был спасением.
За всё время влюблённости в Нэнси
он не смог написать ни одного
значительного стихотворения. Всё
выходило манерным, куртуазным,
мёртвым. Это единственный случай в
его жизни, когда он заблудился в не
близкой для своей природы среде. И
всё же от этой страсти, по их
разрыве, осталась одна-единственная
настоящая вещь. Она стала едва не
лучшей любовной песней на
английском языке. Так Бёрнс
возвращался к своему дару:
Поцелуй
– и до могилы
Мы
простимся, друг мой милый.
Ропот
сердца отовсюду
Посылать
к тебе я буду…
Конечно,
Роберт вернулся к своей истинной
любви, к своей милой Джин. Он
понимал: лучшей подруги, в терпении
сносящей его причуды, вспышки
гнева, гонения от родителей и всё
же остававшейся верной, у него
никогда не будет.
Любовь,
как роза, роза красная,
Цветёт
в моём саду.
Любовь
моя – как песенка,
С
которой в путь иду.
Сильнее
красоты твоей
Моя
любовь одна.
Она
со мной, пока моря
Не
высохнут до дна»…
И Бёрнс понял,
что должен вернуться к плугу.
Именно крестьянский труд давал
чистоту его голосу. И в то же самое
время церковь, наконец, признала их
брак. А Джин родила еще мальчика.
Поэту –
тридцать лет. Это для его труда –
самое напряжённое время. Бёрнс
ведёт большую переписку. Всерьёз
пытается разобраться в принципах «Просвещения»,
нащупать истинно-плодотворное.
Складывает целые философские
трактаты.
Одной
мечтой с тех пор я жил:
Служить
стране по мере сил
(Пускай
они и слабы!),
Народу
пользу принести –
Ну,
что-нибудь изобрести
Иль
песню спеть хотя бы!…
Очень много
сил отдавал поэт обработке
фольклора. Это – особая область
его жизни, как и жизни всего народа
в ту эпоху. Именно предания прежде
всего хранили историческую
национальную память в условиях
внешней несвободы. Облагороженные
образы давали силу жить, полной
грудью дышать и не терять надежду.
Именно фольклор, собранный учёными,
обработанный поэтами, и в первую
очередь Бёрнсом, приводят сегодня
Шотландию к «самостоянию», как
любил говаривать наш Пушкин. Для
кого-то фольклор – экзотика,
диковатость, поле для собственных
игрищ при искусстве. Для Шотландии
– тот идеальный стержень, не
позволивший раствориться в более
сильном родственном соседе. В
произведениях же высокого
искусства, вышедших из преданий,
легенд проявляются обязательно
еще категории возвышенного и
патетического. Без них искусства
нет. Есть что-то паразитирующее на
средствах его. Вот почему в
шотландском фольклоре главные
герои – прекрасные преданные жёны
и девы, жертвенные натуры. Они
любят до самой смерти своих мужей,
друзей – рыцарственных, верных,
защитников земли и народа. Эти
женщины способны жестоко мстить
предателям. Способны ждать любимых
даже после их гибели. А погибшие
герои всё равно, пусть и в виде
призраков, стремятся вернуться и
последний раз обнять милых. Этот
фольклор облагораживает, несмотря
на распахнутую дверь в саму
преисподнюю, с тёмными силами
которой часто схватываются герои и
не всегда им удаётся уцелеть.
Отвага, некичливая героика и плачь
по человеку – отличительные черты
эпики скоттов.
В 91 году
Бёрнсы переезжают в городок
Дамфриз. Последние годы – самые
тяжелые для Роберта. Он быстро
теряет здоровье – последствия
долголетнего надрывного труда.
Пришлось продать за бесценок ферму.
Друзья выхлопатывают ему место
королевского служащего,
инспектора по акцизам. Насмешка
судьбы: он обязан быть примерным
чиновником, объезжать округу с
проверками – исправно ли платят
торговцы налоги? Но в душе он –
убеждённый вольный поэт. Такой же
бунтарь-свободолюб, какими были
его предки. Только, не с мечом в
руках, а с пером.
Да
здравствует право читать,
Да
здравствует право писать.
Правдивой
страницы
Лишь
тот и боится,
Кто
вынужден правду скрывать»…
Лёгкий
штрих к портрету «Чайки»
В
истории литературы есть даты, не
отмеченные выходящими из ряда вон
событиями. Казалось бы – это
просто дни, просто числа, в которые
кто-то познакомился с кем-то и
беседовал о чём-то. Дни эти
поначалу теряются в потоке
значимых дел, ярких явлений,
изглаживаются из памяти
современников. И лишь гораздо
позже потомки могут по достоинству
оценить их значение.
Вечером
двадцать четвёртого января тысяча
восемьсот восемьдесят девятого
года в доме издателя «Петербургской
газеты» Худенкова был приём.
Собрались авторы и сотрудники.
Хозяин дома познакомил Антона
Павловича Чехова с молодым
литератором Лидией Авиловой.
Худенков был женат на её старшей
сестре и потому представил
свояченицу просто, по-домашнему: «Девица
Флора, моя воспитанница». «Флорой»
Лиду прозвали за цветущую
внешность, нежно-розовый налив щёк
и за две длинные густейшие косы. Ну,
а «воспитанница» - это оттого, что
он обучал её начаткам ремесла.
Антон Павлович, всегда чуткий к
интонациям, шутке, в тот раз
подтекста не угадал.
Перебрались
в столовую. И Чехов уже сам подошёл
к скромно стоявшей у стены Лидии.
Вдруг запросто, без церемоний, взял
в руку её косу, принялся
разглядывать:
- Никогда не
видел таких! – удивился наивно.
А она
обиделась. Подумала: по манере
обращения он действительно принял
её за сиротку-воспитанницу!
Самолюбие Лиды было серьёзно
задето.
Затем Чехов
пригласил её на скорую премьеру «Иванова».
Спросил, на кого выписать
контрамарку? И тут она в
приподнятом тоне высказала всё:
никакая она не воспитанница, чтобы
так без спроса трогать её косы! Она
– сестра супруги Худенкова. К тому
же – мужняя жена и мать. И следом
Чехов узнал подробности от пылкой
женщины: у неё растёт чудный
сынишка, муж – инженер, из донских
казаков, а сама она пишет рассказы
и начинает публиковаться.
Позже
современники оценят те рассказы
достаточно высоко – в каждом из
них видна художественная мысль. Да,
Лидия была действительно
одаренной…
И вот Чехов
и Авилова весь вечер сидят рядом:
- Так у вас сын?
– склонится он и неожиданно
взглянет прямо в глаза. – Да?.. Как
это хорошо!
И они будут
беседовать, беседовать, уже оба
всматриваться друг в друга. И с их
душами, по утверждению Лиды, что-то
произойдёт. Станет вдруг радостно,
ярко! И это чувство уже не оставит
их…

Лидия Авилова
Так
открывался этот долгий и очень
сложный роман близких по духу
людей. Пожалуй, единственная
полная влюблённость Чехова. Память
о ней живёт в некоторых лучших
вещах Антона Павловича, в записках
самой Авиловой, в воспоминаниях
Бунина, и отчасти – в мемуарах
сестры Чехова Марии Павловны. Хотя
последняя отвергала серьёзность
этого чувства. Но сестра - лицо
заинтересованное. Ей хотелось
видеть рядом с братом свою любимую
подругу Лику Мизинову. Именно на
основе её записей появятся после
книжки, спектакли, фильмы,
преувеличивающие роль Мизиновой в
жизни брата и даже искажающие
характер их отношений.
Ну, а в
чувстве к Авиловой Чехов
открывается нам вдруг с той самой
стороны, с которой открыты им его
лучшие герои – в глубокой
противоречивой любви к женщине и в
страдании совести.
С той
первой встречи Авилова и Чехов не
виделись целых три года. Вновь
сошлись на юбилее газеты. Она знала
о его приезде и волновалась:
вспомнит ли? Какими найдут друг
друга? И возникнет ли та осветившая
душу близость? Она никогда не
забывала о ней. Не могла забыть. Да
и не хотела, даже несмотря на
окружавшие шорохи слухов, на
догадки мужа и его растущую
ревность, переходящую в ревность к
литературным занятиям жены вообще.
И вот,
наконец, Чехов в дверях. Они с
надеждой и лёгкой тревогой
протягивают друг другу руки…
За обедом
пристроились где-то в уголку,
подальше от лишних глаз. Он вдруг
высказал:
- Не кажется
ли вам, что когда мы встретились
три года назад, мы не познакомились,
а нашли друг друга после долгой
разлуки?
- Да, -
нерешительно ответила она.
- Да, такое
чувство может быть только взаимное.
Но я испытал его в первый раз и не
мог забыть. Чувство давней
близости…
Да, именно
это чувство они будут испытывать и
в дальнейшем. И удивительно –
Чехов потребовал пересылать ему
всё, что она пишет, публикует. Он,
аристократ слова, как бы свысока
относящийся к женщинам в их
рассуждениях о литературе и тонко
переводящий такие разговоры на
выведывание каких-нибудь секретов
приготовления варенья, вдруг
признает эту начинающую
писательницу ровней себе! Кстати,
именно этот факт убедил Бунина в
искренности и глубине их отношений.
Началась её
литературная учёба у Чехова. Учёба
трудная – мастер был строг.
Требовал писать точней, глубже,
больше. А в её доме росло уже трое
детей, и муж ревновал к прозе всё
яростней. Но не только к прозе.
После того юбилейного обеда в
окололитературных кругах загуляли
сплетни. И Чехов, страдая за честь
женщины, зарекался хотя бы ещё раз
приехать в Петербург.

Старый Петербург
Но горше
всех в этой обстановке было,
конечно, Авиловой. Письма же
становились теплей и теплей.
«Как я
ждала вас! Как ждала! Ещё в Москве,
на Плющихе, когда не была замужем!»
- вырвалось у неё признание в
дневнике той поры... Ей – всего
двадцать восемь. Ему – тридцать
пять лет.
Новая
встреча состоялась опять в доме
сестры, у Худенковых. Чехов шутливо
сетовал, оправдывался: оказался,
мол, безвольным, вновь приехал в
столицу. А Лидии по секрету
признался – его вновь тянет писать
пьесу. И пьеса задумывается
несколько странная.
А она в ответ
горько жаловалась на съедающие всё
время семейные хлопоты, на
невозможность глубоко погрузиться
в писательство. И на то, что
серьёзного литератора из неё не
выйдет.
Антон
Павлович порывисто возразил:
- Вы молоды,
вы талантливы… О нет! Семья не
должна быть самоубийством!
Их
доверительный разговор нарушила
горничная – из дома Авиловой
прислали известие: у сына Лёвушки
поднялся жар.
Чехов
провожал её, спешащую, по лестнице
и, как врач, успокаивал: у детей в
таком возрасте это обычное явление.
Просил назавтра дать ему знать…
Но дома
оказалось - сын спит спокойно, и
никакого жара нет. Это муж уловкой
вынудил жену вернуться. Что ж
делать? – он страстно её любил.
Обнимая, оправдывался:
- Без тебя мы,
мать, совсем сироты…
А Лидия в
тот момент впервые ясно и смело
созналась перед собой – да, она
любит Чехова!
И прошло
ещё время. Их следующая встреча
случилась на масленицу в доме
общих знакомых. Вновь они шутили,
беседовали о литературе. Чехов
убеждал писать роман.
Учил, как это
делается:
- Вы сначала
пишите, пишите, пишите. А потом
сокращайте, сокращайте, сокращайте.
- Да, пока
совсем ничего не останется, -
смеялась в ответ Лида.
Затем он
провожал её до дому. А она
неожиданно для себя пригласила его
назавтра в гости – муж был тогда в
командировке на Кавказе.
Весь
следующий день Лидия сочиняла,
продумывала план вечера.
Обязательно показать детей перед
сном, когда они особо прелестны!
Дальше – холодный ужин в кабинете.
И – наговориться!..
Вечер
оказался безнадёжно испорчен.
Неожиданно в гости зашла знакомая
пара. Увидав Чехова, они точно
опьянели. С улыбками, рваным
смешком, засыпали его суетными
вопросами. Писатель замкнулся,
отвечал односложно. Когда от
гостей, наконец, избавились, он
сердито вдруг высказал Лидии:
- Вы устали.
Я уйду, вас утомили гости, - видимо,
слишком важное готовился он
открыть в этот вечер.
Она не
ожидала такой непроизвольной
суровости. Как убитая, едва могла
отвечать.
Но разговор
всё таки постепенно завязывался.
Поначалу пробовали обсудить дела
издательско-литературные. Лидия
взялась противоречить по мелочам.
Он сердился, обвинял в упрямстве,
не мог понять – она препирается из
женской натуры, «от обратного».
Желает подтолкнуть раздражённого
человека на откровение, признание.
Чехов сбился,
взял паузу. Выпил пива. И подступил,
наконец, к главному. Вновь принялся
убеждать: ему нужно уйти. А ей –
лечь спать. Она ему кажется сегодня
какой-то другой, равнодушной, что
ли…
Он явно
мучился, решался. И вот пересилил
себя. Откровение началось:
- Помните ли
вы наши встречи?.. Знаете, что я был
серьёзно увлечён вами? Это было
серьёзно. Я любил вас… Я вас любил
и думал только о вас. И когда я
увидел вас после долгой разлуки,
мне казалось, что вы ещё похорошели
и что вы другая, новая, что опять
вас надо узнавать и любить ещё
больше, по новому. И что ещё тяжелее
расстаться…
Не правда ли,
как много общего в этом признании с
важнейшими монологами его будущих
пьес, повестей, рассказов?
Почему они,
глубоко влюблённые, не решились
изменить их жизни, соединиться?
Причина не во
внешних обстоятельствах. Просто,
Лидия высказала: в таком разрыве
обязательно будет кто-то страдать.
И Чехов не пошёл на это при всех
своих широких взглядах на
общественное устройство. Он не мог
пойти. Для него нравственный
разлад – это разлад гармонии. А
Чехов, по ёмкому определению
академика Сергея Ольденбурга, его
ровесника, принадлежал к
последнему поколению образованных
русских людей, сохранивших полноту
и гармоничность восприятия бытия и
цельность мировоззрения. В
последующих это утрачивалось. Не
потому ли сегодня обывателю так
трудно понять мотивы поступков его
близких предков и даже некоторых
современников?..
Чехов уехал
на свою Лопасню, в Мелехово. Увёз
стопку её рассказов. В сердитых
письмах разбирал недостатки –
побуждал ответственней работать. И
опять, уже всерьёз, требовал писать
роман. А их действительный роман
разворачивался теперь в письмах.
- Окончание в
следующем номере -